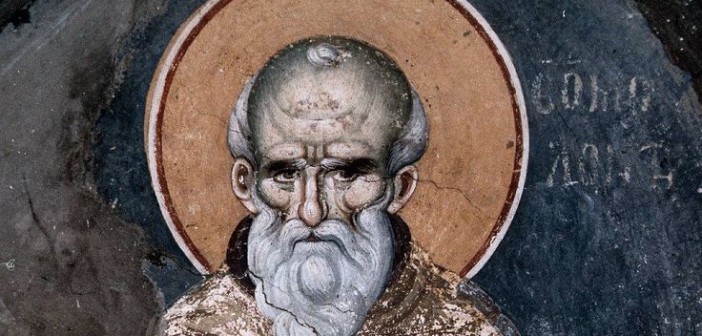Нестерук А. В. «Назад к Отцам»: преподобный Максим Исповедник, неопатристический синтез и критика секулярного разума в XXI веке1
Экзистенциальная целостность человека как центральная тема неопатристического синтеза
Святоотеческое богословие уместно в современном мире, ибо оно экзистенциально. Флоровский утверждает, что «Отцы вынуждены были иметь дело с экзистенциальными проблемами, с откровениями вечных вопросов, описанных и зафиксированных в Священном Писании. Можно предположить, что святой Афанасий и блаженный Августин в этом смысле гораздо более современны, чем многие современные богословы»2. «Христианский мир нуждается в наши времена в здоровом экзистенциальном богословии, — подчеркивает Флоровский. — По сути, как духовенство, так и прихожане испытывают жажду богословия»3. Говоря о богословии, Флоровский подразумевает здесь жизненное богословие в стиле Отцов, отличное от «странных идеологий», которые образуют псевдотеологии «современного» толка. Подобное богословие не сводится к вопросам жизни и смерти в обыденном значении этих слов. Подобное богословие утверждает себя как модус личностного бытия, как событие сопричастия с Другим. Быть современным богословом «патристического типа» означает жить в вере, следуя Божией воле4 (каждый богослов является уникальным и несводимым ни к чему событием существования), осуществляя задачу неопатристического синтеза как возвещения истины о Слове Божием5. «Богослов должен говорить с живыми существами, обращаться к живым сердцам, он должен быть полон внимания и любви, осознавая свою непосредственную ответственность за душу своего собрата, и в особенности за душу, которая все еще в потемках»6. Богословие должно стать диалогическим, чтобы говорить о Боге в диалоге с живыми людьми, в диалоге, который внутренне в Боге и с Богом. Богословская мысль никогда не может быть отделена от жизненного действия. Соответственно все формы социальной активности, будь то культура, политика, философия или наука, рассматриваются в перспективе событий Богообщения. Подобное понимание становится еще более выпуклым на фоне доминирующей секулярной научно-технической культуры, которая неявно вносит раскол в единство человеческого разума, провозглашая свой суверенитет и власть над всеми аспектами бытия. По сути речь идет о попытке расщепить единство сопричастия и бытия. В свете этого защита христианского взгляда на смысл и ценность человеческой жизни, включая артикуляцию последних с помощью научных достижений, приобретает характер защиты представления о личности вообще, как модуса бытия, несводимомого к каким-либо частным аспектам мира7. Соответственно смысл и ценность науки и техники выявляются только в контексте предохранения и защиты личностей как экзистенциальных центров бытия и событий Богообщения. Другими словами, позиция богословия по отношению к культуре и науке не является более абстрактным идеологическим постулатом, но происходит из глубины самих событий жизни. А тогда нетрудно понять, что некоторые аспекты технического прогресса должны быть отвергнуты, а некоторые приняты.
В большинстве дискуссий на тему религии и культуры, богословия и науки принимается естественная установка сознания, в которой оба члена предполагаемой оппозиции представляются как некие равнозначимые типы человеческой активности. При этом сам человек и его формы субъективности, из которых разворачивается как видение Бога, так и утверждение физического и социального мира, полагаются как бы пред-существующими и не подлежащими вопрошанию об их фактической наличности. В таком наивном подходе так называемый диалог сводится к установлению случайных исторических различий во взглядах на мир в богословии и культуре, так что собственно посредничество между ними сводится не более чем к обсуждению возможности приведения их к некоему общему знаменателю, который в силу случайной историчности самой дискуссии оказывается тоже случайным. Однако пытливый философский ум немедленно должен указать на то, что коль скоро в основании как богословия, так и культуры и науки лежит один и тот же человеческий субъект, одна и та же личность, то, по-видимому, вопрос о различии или о трениях между богословием и культурой является следствием распада интенциональностей одного и того же человеческого сознания. Может ли этот распад привести к экзистенциальному противоречию в личности, то есть может ли он поставить под угрозу сам факт ее целостности и, следовательно, существования?
Христианская антропология, трактуя человеческую жизнь в контексте обожения, ставит ее в зависимость от способов мышления человека, помыслов и грехов, определяющих исход посмертного существования личности, так что действительно целостность личности зависит от целостности самого сознания (души) как образа Бога. Это, конечно, не означает, что физическая составляющая жизни человека играет второстепенную роль, и православная антропология предполагает изучение человека в тех условиях, в которых он функционирует на этой планете в физической Вселенной. Но что касается вопроса о распаде интенциональностей и угрозе личности, то именно здесь богословская антропология осуществляет постоянную конструктивную критику всех секулярных и духовно ограниченных представлений о человеке только как продукте биологической эволюции или же социального конструирования. Принимая во внимание достижения философской антропологии и современных исследований о культурной и социальной составляющей человеческого бытия, богословие приостанавливает свое суждение о них, созерцая и селектируя из них лишь то, что важно для духовного прогресса человека и человечества в целом, исходя из приоритета личности как центра раскрытия и манифестации смысла как тварного мира, так и его Творца.
Необходимо подчеркнуть, что целью неопатристического синтеза отнюдь не является некое неопределенное объединение православного богословия с современными философскими и научными идеями. Такой «синтез» привел бы к еще одной интеллектуальной абстракции без каких-либо жизненных последствий. Подобный синтез был бы по-прежнему исторически случайным, ибо в нем не содержалось бы внутренней сотериологической необходимости, исходящей из логики жизни Церкви. По сути идея построения нового богословского синтеза на основе решения экзистенциальных задач позиционирует этот синтез как дальнейший ответ на вопрос о смысле человека как центра творения. И здесь православное богословие выдвигает главный критерий в своей критической оценке всех секулярных форм антропологии и социологии: последние принимаются во внимание лишь в той мере, в какой они не говорят о том, чем является смысл человеческой жизни и что составляет суть человеческого состояния8. Именно этот скрытый апофатизм удерживает богословие от создания произвольного синтеза, присущего конкретной исторической эпохе. А отсюда следует, что идею какого-либо законченного богословского синтеза, в том числе и неопатристического, следует трактовать как бесконечную, эсхатологическую задачу. В отличие от секулярных институтов Церковь обладает способностью подвергать свое собственное мышление самооценке и коррекции с помощью реализованной вечности как раскрытии ворот Царства будущего века в ее Литургии в ответ на евхаристическое приношение мира его Творцу. Отсюда нетрудно сделать еще один важный вывод о том, что евхаристическая оценка Церковью смысла культуры и науки по-своему трактует человеческую деятельность по исследованию и артикулированию мира как пара-евхаристическую работу.
Богословие с его преданностью живому преданию Церкви должно развиваться для того, чтобы стать экзистенциальным не только в отношении философско-антропологических терминов, но также в отношении своих собственных основ, то есть церковных определений и догматов, чтобы последние стали руководством для людей, живущих в современной культуре9. Антропология при всем том играет важную роль, ибо смысл человеческого существования не может быть найден вне невыразимой религиозной тайны Того, Кто может сказать: «Аз есмь Сый». Так же как высшая жизненная истина Синайского откровения не может быть объективирована и понята без участия в словах Бога, само существование тварного мира (то есть Вселенной и человеческих существ) может быть осмыслено лишь в модальности существования-участия, которое тоже не объективируется, ибо несет в себе некую неустранимую неопределенность10. Все попытки объективировать тайну случайной фактичности человеческой личности, актуализацию самого события зачатия (то есть события «воплощения души в теле») изнутри физической и биологической природы могут быть интерпретированы Библейским нарративом, говорящим о сотворении человека не как о результате игры безличностного случая и необходимости в природе, а как об акте личного отношения с Богом, тем самым перемещающим метафизический вопрос о существовании вообще (почему есть что-то, а не ничто) в область конституирования тварного в опыте Богообщения11.
Человек, или человечность, определены с помощью идеи участия в Божественной бесконечности: Христос является в этом смысле примером и нормативом, представление о котором встроено в некоторые социальные практики и культурные реалии. Участие в бесконечном предлагает не только новое видение антропологии (как открытой и свободной по отношению к необходимостям миропорядка), но и новое видение онтологии (несмотря на всю неоднозначность, связанную с употреблением этого термина). Характеристика такой онтологии допускает два ключевых определения: реляционность (в смысле, используемом в Троичном богословии, то есть когда предикат существования является производным от отношения) и дар. Оба эти определения подразумевают, что существование не является самодостаточным и очевидным; оно соотносится с трансцендентным и как таковое является даром. Вхождение представления о даре в саму сердцевину христианской онтологии естественно вызывает евхаристический ответ на этот дар, таким образом помещая абстрактное философствование и рассуждения об онтологии в конкретное экклезиологическое русло. Можно выразить ту же мысль по-другому: утверждаемая универсальность христианства как модальности существования проявляет себя в конкретных событиях жизни Церкви. Богословие с его установкой по отношению к миру получает свое обоснование в Церкви, для которой богословие является ее голосом. Культура, политика и наука как разновидности человеческой деятельности и соответственно являющиеся вовлеченными в речь мира вместе с богословием должны стать иновыражением синайского откровения «Аз есмь Сый».
Переживая свое существование лишь в отношении с Богом, то есть как дар, христиане ощущают бытие в целом как имеющее основание в Личности. Это означает, что Вселенная сущих существует в Том, Кто может утверждать о своем собственном бытии «Аз есмь Сый». Задача богословия в посредничестве с культурой и наукой в таком случае состоит в том, чтобы убедить последних созерцать Вселенную как воипостазированную в Божественной Личности, так что культурная динамика и космологические тревоги смогут потерять свое значение как безличностные объективации, а также смогут выразить собой присутствие образа Божественной Личности, явленной тварному человеку. Но это требует в первую очередь того, чтобы сами люди перестали трактовать себя как анонимные физико-биологические механизмы, обреченные, согласно бесстрастным законам науки, на распад и смерть, и осознали потенциал свободы от природных необходимостей, заложенный в Божественном образе, позволяющий тем самым приблизиться к гармонизации и пониманию смысла жизни. Взаимообогащение богословского реализма, культуры и науки имеет своей целью прояснить уникальность непосредственного момента существования через события сопричастия Личному Богу, который «открывает Себя с помощью света знания, являющегося ни значением, ни концепцией, а именем и личностью, Иисусом Христом»12. Участвуя в диалоге с Ипостасью Христа, материя мира осознается не как отчужденный ландшафт случайных сил и не как пустые пространства, а как осуществление Божественной заповеди «Да будет Свет». Именно через этот Свет, обусловливающий наше существование, и сам свет познания, культура и наука, как выражающие человеческое существование, становятся возможными вообще. Их истинный статус как разновидности Богообщения восстанавливается.
Именно в этом христианский взгляд на природу реальности, артикулированный снова в стратегии неопатристического синтеза, может иметь влияние на антропологию человека, приводя через общество, политику, технику и культуру к модели человека, альтернативной той, которую православные мыслители квалифицировали в терминах «исторического материализма» (по сути капитализма)13. Подобное изменение взгляда на природу человека, вытекающее из последовательного применения идеи неопатристического синтеза в богословии, можно представить как попытку противостоять дехристианизации Европы и всего мира, что является насущной социально-политической и культурной задачей. Целью такого движения мысли было бы не навязывание некоего нового религиозного фундаментализма, чье присутствие в любом случае было бы деструктивным для целостности общества, но осуществление посреднического и критического подхода к реальности человеческого мира, подхода, могущего помочь человеку осознать смысл его собственного существования в тварной Вселенной. Изменение взглядов на природу человека также способствовало бы изменению самого стиля современного диалога между богословием и научной идеологией (эксплуатируемой современными апологетами атеизма14).
Ценность и оправдание применения идеи неопатристического синтеза в современном мире могут проистекать только из стремления богословия оказать преображающее влияние на мир во всех его аспектах, включая природу, человеческое общество, а также его научно-технологические и политические измерения. Сама возможность этого проистекает из обладания христианами Тем, Чьим именем они называют себя христианами, то есть воплощенным и прославленным Иисусом Христом. Поскольку для христиан Христос остается конечным архетипом всех возможных путей взаимодействия с миром и преобразования этого мира, для человека это означает в определенной мере преобразование на пути, явленном в Воплощении. Речь идет об обожении, понимаемом в данном случае как видение и действие в мире, предельно приближенное к тому, чем обладал Сам Христос: «…и насколько для человека Бог по человеколюбию вочеловечился, настолько смог человек по любви обожить себя для Бога…»15.
Обожение подразумевает здесь, что человек как микрокосм не только способен артикулировать всю Вселенную, но все более и более очеловечивать ее, делая ее макроантропосом16. В этом смысле богословие подчеркивает взаимопереплетающийся характер космологии и антропологии. Эта идея может быть отслежена у Отцов Церкви, в частности, у Немесия Эмесского и преподобного Максима Исповедника. В человеке отражено не только базовое различие в тварном мире между чувственным и умопостигаемым, но и все те разделения в космосе, которые человеку предстоит преодолеть, чтобы восстановить предшествующее грехопадению архетипическое единство «всего во всем» в Боге. Практически это означает ощущение и понимание тварной Вселенной в ее многообразных явлениях, исходя из отношения к ее центру воипостазирования в Логосе-Христе. Как физическое творение Вселенная всегда будет сохранять сущностное различие с Богом, но ее видение и смысл становятся более прозрачными и сотериологически значимыми для человека, как если бы они были раскрыты ему глазами Самого Логоса. Такое преобразующее видение требует метанои (изменения ума) и аскетического очищения сердца; оно предполагает изменение тропоса (способа) человеческого существования, предохраняя при этом его логос.
Естественным убеждением во времена преподобного Максима было то, что ни при каких условиях логос человеческой природы не может быть подвергнут такому его изменению с помощью физических и биологических условий существования на Земле (то есть изменению тропоса существования), которое могло бы привести к его разрушению, то есть сведению на нет самой возможности испостасного единства тела и души человека. Формулируя ту же мысль по-другому, преподобный Максим полагал, что путь обожения исключает злоупотребление тварными реальностями, угрожающими самой возможности логоса человека. Для него было немыслимо допустить, что творческое преобразование мира (например, научно-технический прогресс), в процессе которого преобразуется тропос человека, могло бы привести к такому изменению его логоса, которое по сути означало бы уничтожение человечества17. В этом смысле святоотеческое видение судьбы человечества остается ограниченным просто потому, что в присущую ему эпоху было невозможно предвидеть углубляющееся доминирование науки и техники в человеческой жизни, наступившее, как считают историки, после XVII века.
Преподобный Максим Исповедник, будучи монахом и мыслителем VII века, не был вовлечен в реальности мира за пределами Церкви и, естественно, не внес какого-либо вклада в теорию культуры и научное измерение этой культуры. Соответственно, если мы предпринимаем попытку углубить богословское понимание мира на путях современного неопатристического синтеза, необходимо поместить богословие в контекст современного дискурса об обществе, политике, культуре и науке. Но тогда сама установка на неопатристический синтез становится радикальной в том смысле, что участие в Церковных тайнах здесь и сейчас делает возможным богословское знание, которому суждено выступить посредником между всеми другими формами знания в человеческой культуре. Мы видим, что в неопатристическом синтезе присутствует тенденция выхода за рамки строго богословского знания в следующем смысле: богословие призвано осуществлять посредническую функцию между всеми формами знания, помня и делая явным тот факт, что любое познание является даром. Такое посредничество предполагает изучение тех форм познания, которые не всегда были связаны с жизнью Церкви и христианским преданием. В то время как неопатристический синтез обращается к Церкви и ее истокам, его способы мышления и пафос не исключают представления об этих истоках как свидетельствующих о человечестве в целом. Тот тип общения между человеком и Богом, представленный в Церкви как дар и возможность, открыт всему человечеству. Однако такое понимание не предполагает ассимиляции и растворения сути богословского видения мира как дара, предохраняя богословие изнутри ее непоколебимых столпов веры, церковного предания и Богообщения. Сама возможность познания как дара обосновывается образом Христа в человеке, Христа как центрального дара всему христианскому богословию. Таким образом, богословие должно быть способно понимать современные пути жизни и мысли и в то же время быть критической модальностью самой жизни18, помня о том, что все виды человеческой жизнедеятельности представляют собой радикальный дар существования, то есть жизни, чей онтологический приоритет имеет своим основанием Бога. В этом случае все частные научные взгляды на суть реальности, включая природу, общество и самого человека, получают свое обоснование и понимание из дара динамического богословия как до-предикативного Богообщения. Именно новое прояснение этого внутреннего убеждения Отцов Церкви и является неопатристическим измерением отстаиваемой нами богословской преданности в современном диалоге с культурой и наукой.
То, что делает мысль Отцов актуальной и неустаревающей, заключается в их убеждении, что познание есть Божественный дар, следовательно, если содержание познания отделяется от его внутреннего источника в человеке, оно теряет экзистенциальный и сотериологический смысл19. Познание имеет своим происхождением Бога. Это положение следует трактовать не просто как фидеистскую прокламацию, а как обновление взгляда на познание и образование, обновление, проистекающее из времен до-модерна. Можно предложить читателю несколько примеров интерпретации природы познания во времена патристики.
Отцы Церкви всегда четко понимали специальную природу наук и их ограниченные возможности суждения о вещах. Например, согласно святому Григорию Богослову, даже если астрономия преуспевает в описании «круговращений, приближений и отдалений, восхождений звезд и солнца, каких-то их частей и подразделений», то само по себе это не есть «уразумение еще сущего, а только наблюдение над каким-то движением, подтвержденное долговременным упражнением, приводящее к единству наблюдения многих, а потом придумавшее закон и возвеличенное именем науки»20. Поверхностые впечатления как таковые, даже если они объединены в группы, не проливают свет на конечный смысл вещей. Как это было выражено О. Клеманом: «Всякая тварная вещь имеет свою точку соприкосновения с божественной энергией, девственно чистую точку, логос, софийность, которая одновременно и обосновывает ее и словно намагничивает к полноте. Без логоса, без имени в тварном бытии “было бы только бессмысленное и безумное столкновение глухонемых масс в бездне абсолютной тьмы”»21. Так как познание любой вещи предполагает слышание и диалог со словом, то каждая вещь манифестирует Триединого Творца, в Котором Логос неразделим с Духом. Согласно преподобному Максиму Исповеднику, мы не можем воспринимать малейшую вещь, не испытывая при этом некоего тринитарного опыта. Само бытие вещей указывает на источник их существования в Отце. Умопостигаемость этих вещей, так сказать, их логический порядок, связывает их с Логосом, а их движение указывает на присутствие Духа Святого, Подателя Жизни, придающего им основание и содержание.
Задолго до преподобного Максима Климент Александрийский пытался формализовать аналогичное убеждение об укорененности познания в Божественном, используя философские методы. Говоря о познании, Климент связывал его с пониманием Истины как чего-то всеохватывающего, включающего все разновидности истинного. Истина одна, и это Божественная Истина. Вот почему философия у Климента в «Строматах» характеризуется как проникновение в истину и природу вещей22, но философская истина никогда не отождествляется с Истиной Божественной (Стром. 1.6). Философская истина, скорее, есть частичная истина. Философия может помочь постижению истины, «не будучи причиной постижения, но причиной наряду с другими вещами, как сотрудничающей, может быть, даже совместной причиной» (Стром. 1.6). Сходным образом Климент утверждает, что и в науках содержится только частичная истина: «В геометрии есть истина о геометрии; в музыке — о музыке; и в правильной философии будет содержаться эллинская истина» (Стром. 1.6). Климент заявляет, что греки посредством дара рассуждения, врученного им Богом, подошли к истине, но не смогли собрать воедино разрозненную истину и найти ее источник в Слове Божием (Стром. 1.13. С. 110). Философское знание неполно, так как «оно не способно само по себе произвести ничего согласного с истиной» (Стром. 1.20. С. 131). Климент противопоставляет такое знание христианскому учению, которое, «будучи Божией силой и Божией “премудростью“, действует всецело своими собственными средствами и не нуждается ни в какой другой помощи» (Стром. 1.20. С. 131–132). Что бы наука и философия ни предлагали богословию, богословие легко может усвоить все это и тем самым расширить веросознание, оставаясь в рамках догматических определений23.
Ясно понимая, что любое научное знание как знание, относящееся к тварной природе, никогда не будет полным, то есть никто никогда не достигнет знания вещей как они есть сами по себе, греческие Отцы истолковывали природу и ее знание через свою веру и свое видение мира в его отношении с Богом. Для них трансцендентный Бог Священного Писания сотворил мир из ничего, но Он присутствует в мире через Божественные логосы (как цели и назначения) всех тварных вещей24. Таким образом, Отцы считали своей первейшей задачей осуществить интерпретацию научного познания богословски, при этом критикуя, ограничивая и в то же время завершая и проясняя смысл научного дискурса.
Итак, вопрос состоит в том, как видеть истину за эмпирическими явлениями или, по-другому, как обнаружить присутствие логосов — непреложных и вечных принципов вещей25. Созерцание логосов тварных вещей преподобный Максим считал образом приобщения к Логосу, ведущему в конечном итоге к мистическому единению с Богом. Созерцание логосов осуществляется через очищенный ум (гр. νους (nous)), который является принципиально отличным от эмпирического восприятия или дискурсивного интеллектуального постижения. Такое созерцание творения осуществляется как бы «сверху» или «изнутри», а не через чувственные впечатления или ментальные операции. Оно отличается от того, что в наши дни обычно считается научным опытом. Вместе с тем, с другой стороны, можно увидеть и некое сходство между ними.
В самом деле, наука обычно считает, что она исходит из экспериментов и измерений, из вещей, которые составляют наше обычное понятие о реальном мире, полученное опытным путем. Во всех научных исследованиях присутствует, однако, еще один аспект, включающий оформление случайных эмпирических открытий в теорию. Это требует применения языка символов (например, математики), что дает нам возможность предполагать, что за эмпирической видимостью исследуемых объектов стоит другая, глубинная реальность. Это обычно происходит в тех случаях, когда в физике речь заходит, например, об элементарных частицах, полях, глобальной геометрии Вселенной и тому подобном. Все эти «объекты» известны нам исключительно по их косвенному эмпирическому проявлению и поэтому предстают нашему сознанию только в символических образах. Такое представление реального мира соответствует тому, что мы называем рациональностью познания. Полагаемые физические реальности предстают в феноменальности объектов, являются конституированным сознанием26, то есть источник рациональности сокрыт в тайне человеческой личности, в ее Божественном образе27.
Согласно преподобному Максиму, Божественный Логос присутствует во всех вещах, связывая воедино все их логосы. Таким образом, весь мир наполнен Божественной реальностью, и люди, в соответствии с их логосами, могут обрести ведение логосов вещей. Преподобный Максим выражает эту мысль в характерной, довольно современной манере, когда говорит о присутствии Божественного в составе тварного мира: «…ум, естественно воспринимая все [сокровенные] в сущих логосы… будет иметь расслабленной силу и неосуществимым метод научного исследования поистине истинно Сущего, не имея [возможности] уразуметь, как в каждом логосе каждого из них (сущих. — А. Н.) и во всех вместе логосах, согласно коим существуют все [сущие], пребывает воистину не являющийся ничем из сущих и в собственном смысле слова сущий всем и над всем Бог»28.
Человек обладает знанием элементов природы в различенном виде, видя мироздание разделенным в тенденции к противоборству процессов хаоса и порядка. В то время как опытное познание вещей означает констатацию способов их существования в их многообразии, естественному созерцанию как вéдению логосов этих вещей суждено привести все чувственно многобразное творение к его единству посредством соединения всех логосов в одном Божественном Логосе, который и составляет принцип творения. Чтобы погрузиться в такое созерцание, необходимо отвлечься от чувственно постигаемого творения, то есть увидеть это творение духовным зрением. Преподобный Максим сравнивает такое созерцание тварных вещей с ангельским вéдением вещей чувственных, так как ангелы ведают логосы чувственных вещей напрямую, «сверху». Поскольку присутствие Божественного, согласно преподобному Максиму, происходит одновременно в словах Писания и в логосах вещей, собранных воедино в универсальном Логосе, духовное восхождение через созерцание логосов творения в конце концов приводит к Логосу-Христу. Вéдение элементов тварного мира таким образом обретает все черты участия в Божественном. Присутствие Логоса во всех вещах как принцип, объединяющий логосы этих вещей, позволяет говорить о том, что мироздание оплодотворено Божественной реальностью, а ее вéдение через разум людей (то есть их собственный логос) есть вид Богообщения через узнавание цели и назначения тварного. Естественное созерцание разнообразных логосов в едином Логосе, таким образом, представляет собой своеобразный исход людей из чувственного мира, соединяющий видимое и невидимое, земное и небесное и тем самым приводящий их к единству в принципе их сотворения Богом. Преподобный Максим рассматривает все это тайноводственно, то есть как литургическое действо космического масштаба — «вселенскую литургию»29.
Для преподобного Максима и греческих Отцов в целом характерно то, что они могли духовно «выходить» за границы материального мира, мира природы и созерцать логосы, и через это созерцание славить Творца мироздания. Затем они возвращались обратно в земной мир и видели природу уже в новом свете, с точки зрения ее целей и назначения, то есть с точки зрения Христа-Логоса. Для Святых Отцов мир до пришествия в него Христа был «пуст» в том смысле, что люди не видели Бога, так что роль воплощенного Сына Божия, который через мироздание являет Отца, состояла в том, чтобы «обновить то же самое учение» через Воплощение, таким образом научая тех, кто не мог видеть Бога в его творениях30. Однако Отцы, поклоняясь нетварному через творение, всегда сохраняли бдительность в отношении опасности пантеистического обожествления творения, так как переход от материального к духовному (как простейшему ментальному образу нетварного) мог быть сделан с такой легкостью, что фундаментальная граница между ними могла бы быть потеряна. Поэтому когда мы говорим о «вселенской литургии» преподобного Максима как о форме посредничества между небом и землей, видимым (чувственным) и невидимым (умопостигаемым), необходимо помнить, что преодоление разделений (diairesis) в творении на нравственном и экзистенциальном уровнях не означает уничтожения различий (diaphora) в творении на онтологическом уровне. Молитва Творцу изнутри тварного не устраняет различия между Богом и тварью, хотя изучение природы и может позволить приблизиться к Богу — ее Творцу.
Интерпретируя природу и ее познание богословски, то есть через веру в Бога-Творца, Отцы Церкви не продвигались в понимании и предвидении исторического развития культуры и наук (это не было их задачей, ибо они были прежде всего епископами и защитниками христианской веры). Именно поэтому, настаивая на уместности неопатристического синтеза нашего времени, мы, естественно, идем существенно дальше, чем патристический синтез прошлого в вопросе возможности богословского суждения о культурной и научной деятельности нашего века. А это, в свою очередь, требует от нас не просто эпистемологической рефлексии, но и определенного рода действия как суждения о культуре и науке в сотериологической перспективе, то есть как суждения о тех неотъемлемых чертах человеческого состояния, которые призваны изменить человека и мир в целом в соответствии с надеждой на спасение. Задача человека «возвысить» природу, общество и самого себя (как эмпирическое существо) для того, чтобы их логическая и софианическая сущность достигли полного осуществления (в которой все творение становится макро-антропосом, используя язык преподобного Максима Исповедника). Рассуждая о таком осуществлении, мы говорим об установлении принципа Божественного присутствия в мире, который бы объединил различные аспекты человеческой деятельности, политику, экономику, науку и культуру. Обнаружение такого принципа могло бы быть осуществлено с помощью человеческого творчества в отношении многообразия мировой реальности (раскрываемого наукой), даже если это творчество не имеет прямого отношения к аспектам церковной жизни. В этом случае можно говорить о новом откровении о христианстве, откровении, которое не изменяет его сути, но приводит к новому осознанию31.
Человеческое творчество не следует абсолютизировать не только потому, что человеческие существа не могут произвести ничего нового в смысле сотворения (им предопределено воспроизводить только то, что уже им дано), но потому, что к самому творчеству следует относиться творчески, то есть критически. Это означает, что все виды человеческого творчества, как включенные в ткань сотворенного, могут иметь богословский смысл и обоснование, если они служат спасительным целям человека, соединяющего Вселенную с Богом, реализующего тем самым свое предназначение макро-антропоса. Если указанную сотериологическую цель игнорировать, то человеческая деятельность рискует создать демонический и не-человеческий мир, в котором свет Божественной истины будет затемнен. Последнее замечание важно тем, что для человека предохранение архетипического образа богочеловеческого Христа означает предохранение логоса его природы во всех видах творческой деятельности, предполагая лишь изменение и обновление тропоса его природы. Но именно это и представляет собой проблему в нынешнем состоянии человечества, которое, «экспериментируя» с природой посредством научно-технических (а также опосредованно социально-политических) нововведений, изменяя тем самым тропос существования, рискует не только не предохранить логос человеческой природы, но и действительно разрушить его.
Опасность состоит в том, что, порождая дисбаланс в человеческой природе в сторону все большей зависимости от физических продуктов человеческой деятельности, человеческое «творчество» нарушает меру присутствия Божественного образа в человеке, тем самым изменяя антропологический тип и подрывая саму основу христианского видения смысла человечности как отношения с Богом32. В конечном итоге человек может счесть возможным провозгласить свою независимость от Бога, «обожествляя» себя и всю Вселенную. Жизненное сопричастие Божественному в таком случае теряется, и человеческое творчество отпадает от положенного ему в самом начале спасительного телоса. В таких условиях христианство может сохраниться лишь как некая нормативная практика, обладающая способностью судить и проливать свет на природу вне-христианской деятельности. Однако разрушенное единство человеческого познания мира в Боге и Бога в мире с неизбежностью приводит к поляризации секулярного познания и богословия. Секуляризм как раз и проявляется как следствие переизбытка изменения тропоса человеческой природы по отношению к ее логосу. Выражаясь резче, секуляризм возникает как неизбежное последствие искаженной антропологии. Именно недоразвитая, ущербная антропология превращает богословскую онтологию в рационалистическую онто-теологию с вытекающей оттуда смертью Бога33. Откровение и сопричастие становятся онто-теологическими понятиями, лишенными жизненного смысла и сакраментально-евхаристического характера. Богословие как опыт Бога становится отделенным от секулярной деятельности, так что фактически творчество в христианстве становится невозможным. Именно из этого негативного вывода и следует обратное, а именно то, что проект христианской культуры (включающий научный ее аспект) становится предельно актуальным как альтернатива безудержной секуляризации всех сторон жизни человека.
Здесь мы сталкиваемся с проблемой совмещения возможности христианского осмысления современной секулярной культуры и науки с христианской традицией как кумулятивным результатом многих поколений религиозного опыта, как выражением отношения между человеческим духом и Духом Святым. Богословие понимает традицию не только как «воспроизведение» религиозных событий литургически. Речь идет не о декламировнии текстов Священного Писания и пассивном прочтении Отцов Церкви. Скорее традиция подразумевает постоянное призывание Бога в Церкви и мире, призывание, которое в его относительном единообразии с прошлым содержит в себе онтологический элемент нескончаемого утверждения реальности Церкви и ее богословия. В этом смысле традиция превосходит известную оппозицию между «окостенением» и обновлением. Будучи живой традицией, она является развивающейся, ибо ей приходится иметь дело с изменяющейся реальностью человеческого бытия в политике, культуре и науке. Но присутствие традиции в этом изменении как раз и указывает на то, что человеческое познание должно быть вовлеченным в процесс своей собственной самооценки34. При этом то, что иногда популярно обозначается как обновление и «оживление» традиции, не является выходом из нее. Скорее это критическое и не-приспосабливающееся освоение новых идей изнутри той же самой традиции, но в контексте современности. Именно в силу действенности религиозного опыта прошлого в настоящем богословие не может принять и подстроиться под произвольные формы и тенденции секулярного мышления, присущего эпохе постмодерна. Богословие остается той сферой человеческого существования, которая может осуществлять посредниче-
ство с секулярными процессами, никогда не приспосабливаясь к ним. В этом состоит его радикальная позиция по отношению к секулярной культуре и науке, вытекающая из требования, чтобы церковное богословие проводило четкое различие между беспристрастным созерцанием того, что происходит в современной культуре и науке, и своей вовлеченностью в них. Не приспосабливаясь к секулярной культуре и науке, церковное богословие как живая традиция наделено правом судить о секулярном мире через его постоянную согласованную критику35.
При всем том радикальное отношение к человеческому миру через критику культуры и науки совсем не исключает позитивного отношения богословия к этому миру. Православное богословие судит не мир сам по себе, а утверждаемую секулярной культурой и наукой независимость их ощущения мира от присутствующего в человеке Божественного образа и, как следствие, от Бога36. Делая это, богословие говорит о том, что не является Богом, но оно отдает себе полный отчет об этом антиномическом отличии. Позитивная оценка секулярной культуры и науки с одной стороны, и окружающего мира с другой, как отличных от христианства и от Бога, имеет свое основание в освящении живым богословием плодов человеческого труда, включая культуру и науку, так чтобы они адекватно функционировали в полноте сопричастия человека с Богом.
Творческая деятельность, приведшая к возникновению западной секулярной культуры, всегда опосредовалась христианской традицией. Это остается актуальным и сейчас: «Богословие должно оставаться открытым сегодня, чтобы охватить и принимать как человека, так и космос; оно должно принимать во внимание как устремления всего человечества, так и результаты современной науки и техники»37. Творчество, проявляемое в культурной и научной деятельности, становится постоянной задачей самой Церкви. Церковная традиция есть традиция живая и развивающаяся, поскольку православие в собственном смысле этого слова (как правильное прославление, «славие» Бога) представляет собой бесконечную задачу38. Соответственно для православия существование во времени предполагает преодоление дихотомии между окостенением и обновлением в самой сути человеческой истории, богословски понимаемой как синергия между человеком и Богом на путях спасительного телоса. Именно верность традиции позволяет сбалансировать безудержный призыв к обновлению (могущему незаметно сползти в секуляризм) и тем самым распознать опасность каких-либо социально-оптимистических обещаний на фоне изменения и «завершения» богословия в данном ограниченном историческом периоде.
Обновление следует понимать как постоянную тенденцию, так что его смысл может быть осознан только в перспективе будущего века. Поэтому обновление, предполагаемое неопатристическим синтезом, может иметь значение только в контексте его постоянного евхаристического переосмысления, не только в смысле «реализованной эсхатологии», как уже исполнившегося ожидания, но также и в смысле буквального ожидания будущего века, ожидания, влияющего на этическую сторону человеческого состояния и его проявления в физическом мире и обществе. И именно в этом смысле истина секулярной культуры и науки может быть постигнута только через придание им пара-евхаристической модальности39, в которой их видение и перспектива из века будущего будут «реализованы», но в то же время ожидаемы. Соответственно при обсуждении уместности идей преподобного Максима Исповедника в XXI веке нами также предполагается присутствие евхаристического, то есть церковного измерения этого обсуждения, подвергнутого герменевтике присутствия будущего века в настоящем.
Если обновление в богословии не подвергается своей собственной богословской критике, оно может привести к деструктивному утопизму. Философы и богословы, критикующие науку и технику, а также западное отношение к жизни вообще, подчас исповедуют ностальгию по отношению к «безопасности» и «уверенности» в том до-технологическом состоянии мира, которое, как они верят, было более стабильным и мирным, которому не угрожали экологические проблемы и технические катастрофы и из которого мир виделся неизменным и «вечным». Однако такое видение мира парадоксально в первую очередь тем, что в нем отсутствуют направление и цель его развития. Здесь ностальгические мотивы представляют анти-историческую иллюзию, отрицающую присущую культуре и научному развитию телеологию, связанную с задачами самого человека. Не следует забывать, что носители культуры и ученые при этом тоже плохо представляют задачи и эсхатологическое значение культуры и научных технологий40. Отсутствие чувствительности к эсхатологическому измерению культуры и науки лишает возможности понимать их как пара-евхаристическую деятельность и тем самым возможности рассматривать их как постоянно продолжающееся воплощение человечества в космосе в духе идеи макро-антропоса. Ввиду этого задача христианского богословия состоит не в том, чтобы критиковать и судить о культуре и науке относительно их конкретных проявлений и фактов, но в том, чтобы выявить и оживить в их развитии эсхатологическое присутствие, позволяющее осмыслить амбивалентность культуры, науки и техники, измеряющих меру страданий человека в состоянии грехопадения и возможности их преодоления в перспективе будущего века.
Из того, что мы рассмотрели, следует, что эсхатологизм предполагает трансцендирование, но не в смысле некой футурологии как прогнозирования будущего, а в смысле воспоминания о будущем или, обратно, в смысле предвосхищения прошлого — в смысле созерцания вещи не через естественный поток времени, но через тревожное ожидание будущего века, откуда смысл вещей, их цели и их финал становятся очевидны. Это, по словам Д. Станилоэ, «демонстрирует, что мы не можем понять природу и смысл науки и техники вне признания высшего предназначения человека, его призвания найти свое завершение в Боге»41. Именно это предназначение способно избавить человека от страха перед культурой и наукой, от ощущения раздавленности ими, подобно тому «как Евангелие и учение Отцов освободило его от ощущения зависимости от капризных духовных сил, использующих природу произвольным образом»42. Развитие культуры, науки и техники, таким образом, должно восприниматься и направляться на то, чтобы поддерживать отношения с другим полюсом нашего существования, с нашим Творцом и нашим архетипом — Богом43. Культура, наука и техника должны быть богословски поняты так, чтобы обрести их истинное место в бесконечных задачах человека по освобождению от ограничений физической природы. Тогда и только тогда существующий раскол между богословием, секулярной культурой и наукой сможет быть преодолен посредством обращения его корней из исторического прошлого, сопровождающегося недружелюбностью и подозрением, к общему телосу богословия, культуры и науки, неотъемлемо присущему человеческому состоянию и движущему богословие, культуру и науку к осуществлению предназначения человека.
В заключение можно предположить, что неопатристический синтез в XXI веке будет представлять нечто большее, чем то, что было предложено Г. Флоровским. Задача прочтения преподобного Максима Исповедника в XXI веке будет, с одной стороны, состоять в удержании содержания его мысли в той традиции, где эта мысль возникла, чтобы избежать опасности ее внеисторического прочтения и анахронистического истолкования. С другой стороны, так же как и евхаристическое чтение Священного Писания являет собой эсхатологический акт собрания общины молящихся в единомыслии и в ожидании открываемой премудрости, созерцание истории жизни и постижение смыслов написанного преподобным Максимом Исповедником будет носить транс-исторический, а следовательно и эсхатологический характер. Поскольку для христианства важна направленность на будущее спасение, именно будущее несет обновление, перенормировку традиции в виде повторения базовых структур, лежащих в основе повседневной жизни человека. Истинный же повтор заключается в воссоздании жизни Христа, то есть в выявлении его уникальности, которая предполагает Его постоянное различие с текущим настоящим. Отсюда само выражение «назад к отцам», как возвращение к прошлому, оказывается несущим двойной смысл, ибо оно означает не только преодоление всех исторических наслоений, отделяющих нас от Отцов (чтобы обнаружить пути, ведущие к содержанию истины). Само это преодоление по сути происходит в будущем по отношению к тому прошлому, которое уже осуществилось. Тем самым путь к Отцам есть духовное «возвращение» в будущее, есть воспоминание о нем, заключенное в спасительном телосе человека.
Мысль преподобного Максима, являющаяся, по его же словам, иконической по отношению к Царству будущего века, будет направлять нас от «иконы» (eikon) к истине (aletheia). К истине, понимаемой опять же не как ограниченной каким-то историческим периодом, но как к тенденции и процессу, усиливающим нашу ответственность и духовное напряжение в преддверии ничем не обусловленного эсхатона.
1 Данная статья является продолжением статьи «“Назад к Отцам”: преподобный Максим Исповедник, неопатристический синтез и критика секулярного разума в XXI веке» // Метапарадигма. Вып. 5. 2014.
2 Florovsky. The Lost Scriptural Mind. Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View (Collected Works of Georges Florovsky, 1). Belmont, MA: Nordland, 1972. P. 16. Отец Иоанн Мейендорф ссылается на греческих Отцов для того, чтобы провести параллель между ситуацией, в которой было христианство в первые века первого тысячелетия, и теми задачами, которые стоят перед христианским богословием в современном обществе: «…Церкви неоспоримо необходимо, чтобы богословие разрешало сегодняшние вопросы, а не повторяло старые решения старых вопросов. Отцы-каппадокийцы были великими богословами потому, что они сумели сохранить содержание христианского благовестия, когда ему был брошен вызов эллинистическим философским мировоззрением. Без их частичного принятия и частичного отвержения этого мировоззрения — и прежде всего без их понимания его — богословие их было бы бессмыссленным» (И. Мейендорф. Живое предание. М.: Паломник, 2004. С. 267–268).
3 Florovsky. The Lost Scriptural Mind. P. 15. Здесь интересно указать на одно историческое обстоятельство. Примерно в ту же эпоху, когда Флоровский развивал идеи неопатристического синтеза в контексте православия, в западном христианстве наметились аналогичные тенденции, известные под названием «новая теология» (la nouvelle théologie). Яркий представитель последней Ж. Даниэлу обосновывал необходимость обращения к наследию греческих Отцов. Другой богослов, М. Д. Шеню, выражал аналогичную мысль, ратуя за то, чтобы переосмыслить учение Фомы Аквинского: «Возвратиться к св. Фоме — это значит вновь обрести дух поиска, благодаря которому разум возвращается как к вечно животворному истоку к постановке проблем вне рамок раз и навсегда сделанных выводов» (M. D. Chenu. Le parole de Dieu, II. L’Evangile dans le temps. Paris: L’edition du Cerf, 1964. P. 371). Другим представителем идеи обращения к учению Фомы Аквинского являлась ученица Гуссерля, кармелитская монашка, а ныне святая Э. Штайн. Последняя в своей известной работе «Знание и вера», описывая воображаемый диалог между Гуссерлем и Фомой Аквинским, по аналогии с Флоровским и другими настаивала на том, что методологические рассуждения в богословии более не уместны, ибо люди «желают истину, за которую можно ухватиться, они желают обрести смысл жизни, они хотят философию для жизни. И они находят это у Фомы» (E. Stein. Knowledge and Faith. Washington: ICS Publications, 2000. P. 27).
4 По словам преподобного Максима Исповедника, исполнение Божественной воли означает понимание Божественной премудрости и через благочестивую жизнь стяжание обоживающего присутствия Святого Духа. См.: Вопросоответы к Фалассию (Quaestiones ad Thalassium). Перевод и комментарии С. Л. Епифановича, А. И. Сидорова // Творения преподобного Максима Исповедника. Книга 2. М.: Мартис, 1994. С. 59.
5 Florovsky. St. Gregory Palamas and the Tradition of the Fathers. P. 108.
6 Florovsky. The ways of Russian Theology. P. 207.
7 Здесь можно напомнить о страстном отстаивании этого положения Н. Бердяевым. Например: «Личность не составляется из частей, не есть агрегат, не есть слагаемое, она есть первичная целость» (О рабстве и свободе человека. C. 21); или «Тайна существования личности в ее абсолютной незаменимости, в ее однократности и единичности, в ее несравнимости» (Там же. С. 22); или «Личность связана со свободой от детерминизма природы, она независима от механизма природы. Поэтому личность не есть феномен среди феноменов» (Там же. С. 30); или «Личность не порождается родовым космическим процессом, не рождается от отца и матери, она происходит от Бога, является из другого мира» (Там же. С. 32).
8 Речь идет не просто о том, что вся современная антропология и психология по сути апофатичны, ибо они имеют дело не с живой личностью, а лишь с сигнификаторами этой личности, которые никогда не исчерпывают смысла того, что ими обозначается, но также о богословском осознании того, что человеческая личность непознаваема вообще, что следует из признания в ней Божественного образа, то есть образа Того, Кто не познаваем. Классическим святоотеческим примером может служить отрывок из святого Григория Нисского: «…Поскольку природа нашего ума ускользает от познания, и это по образу Создавшего, то значит, она точное подобие превосходящему, своей собственной неведомостью являя отличительную черту неприступной природы» (Об устроении человека (De hominis opificio) / Пер. В. М. Лурье. Санкт-Петербург: AXIOMA, 1995. С. 31). См. также статью современного французского философа Жана-Люка Мариона: Marion J. -L. Mihi magna quaestio factus sum: The Priviledge of Unknowing // The Journal of Religion 85:1, 2005. P. 1–24.
9 Здесь показательно, что касается возможности развития богословия, включая его догмы, высказывание С. Булгакова: «…Надо ясно понять неустранимость догматического развития в раскрытии церковного самосознания, хотя разные его выражения имеют лишь церковно-историческое происхождение и прагматический характер» (С. Булгаков. Православие. Очерки учения Православной Церкви. М.: Терра, 1991. С. 86. См. также: С. Булгаков. Догма и догматика / Живое предание. Православие в современном мире. Париж: YMCA-press, 1937. C. 20). Интересно в связи с этим также высказывание митрополита Иоанна Зизиуласа, указывающего на тонкий характер возможного обновления догматического содержания веры: «Среди так называемых “консервативных” богословов доминирует представление о церковном учении как о чем-то неприкосновенном. Такой взгляд превращает догматы в окаменелые остатки прошлого и увеличивает пропасть между исторической и эсхатологической перспективой непрерывности апостольской керигмы. Внимательный взгляд на жизнь древней церкви и признание евхаристического основания ее вероучения позволяют понять догматы как “доксологические” постановления общины, как “веру, переданную святым” (Иуд. 3), вновь и вновь воспринимаемую сознанием “общины святых” в новых формах ее опыта и постоянной открытости будущему» (И. Зизиулас. Бытие как общение. Свято-Филаретовский Православный Христианский Институт. М., 2006. С. 93–94).
10 См.: J.-L. Marion. Mihi magna quaestio factus sum: The Privilege of Unknowing // Journal of Religion 85:1, 2005.
11 Таким образом преодолевается возражение М. Хайдеггера о невозможности рассуждения о творении из позиции, нейтральной по отношению к вере. Хайдеггер утверждал, что библейский ответ на метафизический вопрос о происхождении сущих неуместен (см., например: M. Heidegger. Introduction to Metaphysics, New Haven: Yale University Press, 1959. P. 6–7). Отцы Церкви, включая блаженного Августина и преподобного Максима Исповедника, понимали, что лексикон сущих неприменим к вопросу о творении и творение принадлежит литургическому словоупотреблению, изнутри которого творение признается, устанавливается, то есть конституируется (см., например: J.-L. Marion. Au lieu de soi: L’approche de Saint Augustine. Paris: PUF, 2008. P. 315–324).
12 Yannaras C. Elements of Faith. Edinburgh: T&T Clark, 1998. P. 41.
13 См.: Yannaras C. The Church in Post-Communist Europe. Berkley, InterOrthodox Press, 1998.
14 В данном случае речь идет об атеизме как определенной точке зрения на познаваемость реальности, ограниченной чувственностью и дискурсивным разумом. Другими словами, познаваемо лишь то, что объективируется, а все остальное содержание душевной и интеллектуальной жизни, не поддающееся объективации, отбрасывается как субъективное и, следовательно, не обладающее практическим смыслом. Реально лишь то, по отношению к чему применим технический прогресс и с чем можно манипулировать. Православное богословие критически относится к такому взгляду в силу его неполноты и претензии на автономию, в конечном итоге указывающей на греховное состояние человека (см. подробней в: P. Nellas. Deification in Christ. NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1997. P. 93–96). Приведем характерное высказывание митрополита Пола Мара Грегориоса: «Мы так привыкли к научно-техническому взгляду, что потеряли способность воспринимать реальность в ее целостности, видения источника и устроителя жизни, а также восприимчивого и почтенного отношения к ней, растворяясь в ней с любовью. Мы потеряли способность отвечать всем нашим существом на бытие Полностью Другого, который являет нам себя в тварной вселенной» (Gregorios. The Human Presence. P. 91).
15 Преп. Максим Исповедник, Ambigua 10 [PG 91: 1113В] (Перевод архимандрита Нектария: О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы). М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. С. 95).
16 Идея макроантропоса о том, что человек становится большим миром, была развита преподобным Максимом. Она представляет мир как предназначенный к очеловечиванию, чтобы мир не просто носил в себе отпечаток присутствия человека, но и чтобы он просто стал всечеловеческим. Это представление также содержит еще один важный смысл, а именно тот, что, согласно преподобному Максиму, человек призван не для того, чтобы быть «окосмиченным», а для того, чтобы космос стал очеловеченным. Судьба космоса в человеке, а не наоборот, судьба человека в космосе. Как это было выражено у Бердяева: «…космос, человечество, общество находятся в личности, а не наоборот» (О рабстве и свободе человека. С. 34). История всей вселенной становится частью истории человечества, так что космос является не только предметом теоретического исследования, но средой человеческого существования, служащего ему практическим образом. Ср.: О. Клеман. Смысл Земли. С. 9, 15.
17 Речь идет о злоупотреблениях достижениями науки и техники, которые были квалифицированы в критической православной литературе с помощью таких терминов как уничижение человека, дегуманизация природы и ее осквернение (см., например: Ph. Sherrard. The Rape of Man and Nature: An Enquiry into the Origins and Consequences of Modern Science. Suffolk: Golgonooza, 1991).
18 Сферой действия богословского мышления являются те области, где Церковь (как воцерковленное человечество) встречается с исторической и культурной реальностью. Богословие творчески и критически осмысливает любую возникающую историческую проблему или тему, оставаясь при этом в сопряжении с духовной жизнью Церкви, ибо эта жизнь есть опыт Бога, то есть вечности. По словам известного румынского богослова XX века отца Думитру Станилоэ, «самое существование Церкви является результатом постоянно обновляющегося действия Святого Духа в осуществлении богообщения»; «врата бесконечного богатства личного и межличностного божественного бытия открыты для осмысления Православным богословием, а в связи с этим и перспективы нескончаемого прогресса человеческого духа в божественном» (D. Staniloae. Church in the World. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir’s Seminary Press, 1980. P. 218). Аналогично этому митрополит Минский и Слуцкий Филарет описывает парадокс церковной миссии в «этом мире» как заключающийся в том, что «сила церковного воздействия на мир напрямую зависит от способности Церкви быть “больше мира”, превышать этот мир, видеть его “очами Божиими”» (Путь жизнеутверждающей любви. Киев: Дух I Лiтера, 2004. С. 53–54). Именно поэтому богословие исходит из опыта Церкви, сопряженного с вечностью, оно всегда функционирует поверх массового религиозного сознания, но также и поверх «секулярного». Задача богословия и состоит в том, чтобы осуществлять постоянную конструктивную критику этих модусов сознания (Там же. С. 29).
19 Н. Бердяев называл это объективацией и связывал с греховным состоянием человека (см. например: Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека. Париж: YMCA-press, 1939). Современная феноменология использует немного другой язык, говоря о сведении реальности к ее контурам, к феноменальности объектов.
20 Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Собрание творений в 2 томах. Т. 1. Слово 28, О богословии второе. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 411.
21 О. Клеман. Смысл Земли. М.: ББИ им. св. Апостола Андрея, 1996. С. 12.
22 Климент Александрийский. Строматы. СПб.: Изд. Олега Обышко, 2003. 1.5. С. 91 (далее мы будем использовать аббревиатуру «Стром.»).
23 Владимир Лосский перефразировал эту мысль: «Христианское богословие вполне допускает любую научную теорию мироздания в том случае, если она не пытается выйти за свои же рамки и начать дерзко отрицать вещи, находящиеся вне ее собственного поля зрения» (В. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М.: Центр «СЭИ», 1991. С. 81).
24 Учение о «логосах», широко развитое в VI веке в богословии святого Максима Исповедника, можно также найти и у других церковных писателей до него. Например, в «Словах» святого Григория Богослова 18.16; 30.20; у святого Григория Нисского в книге «Об устроении человека» 24; у святого Василия Великого в «Беседах на Шестоднев» 1.7–8; у Дионисия Ареопагита в «Божественных Именах» 5.7–8; и у Евагрия Понтийского в «Практиках» 92. Концепцию «семенных причин» (или сперматических логосов), сходных с понятием логосов, развивал также блаженный Августин Гиппонский. Здесь стоит также отметить параллелизм в употреблении терминов «логосы» и «Божественные энергии» у Владимира Лосского в «Очерках мистического богословия Восточной Церкви». (Проблемы этого параллелизма обсуждаются, например, в книге: L. Thunberg. Man and the Cosmos. The Vision of St. Maximus the Confessor. New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1985. P. 137–143.)
25 Теория логосов преподобного Максима Исповедника является предметом широкого обсуждения практически во всех книгах, посвященных преподобному Максиму. Как примеры более подробного рассмотрения можно упомянуть уже ставшие классическими монографии: Balthasar H. Urs von, Cosmic Liturgy. The Universe according to Maximus the Confessor (San Francisco: Ignatius Press, 2003), Ch. 3; L. Thunberg. Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor (Chicago: Open Court, 1995). P. 64–79; Man and the Cosmos. Р. 134–143; J.-C. Larchet. La Divinisation de l’homme selon Saint Maxime le Confesseur (Paris: Les Editions du Cerf, 1996). P. 121–136. На русском языке см.: C. Л. Епифанович. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М.: Мартис, 1996. С. 64–68; В. В. Петров. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII века. М.: ИФРАН, 2007. С. 19–24.
26 Стоит, однако, отметить, что созерцание естества, через которое преподобный Максим описывал постижение логосов в их единстве, ведущее к Логосу Бога, будучи по природе своей разновидностью Богообщения, предполагает присутствие в нем Святого Духа. Это означает, что Бог открывает свои тайны тем, для кого распознавание смыслов творения сопровождается Богообщением через изучение Писания, а также приобщение ко Христу через Церковные таинства.
27 Согласно преподобному Максиму, доступ к рациональности мира основан на подобии логоса человека (содержащего в себе присущую человеку рациональность) и логоса мира. Эта аналогия была им развита в Мистагогии, 7 (Mystagogy 7).
28 Св. Максим Исповедник, Ambigua, 22 [PG 91, 1257 A] (Русский перевод архимандрита Нектария. С. 232). Обратим внимание на то, что в Cap. theologicorum (Богословские главы) преподобный Максим проводит различие между двумя видами знания: «Одно — научное, которое в силу одного только свойства своего постигает логосы сущего; оно бесполезно, поскольку не стремится к осуществлению заповедей. Другое знание — деятельное и действенное, которое подлинно печется о постижении сущих посредством [духовного] опыта» (Главы о богословии и о домостроительстве Воплощения Сына Божиего, 1:22. Пер. А. И. Сидорова. С. 218–219).
29 Термин «вселенская (космическая) литургия» был введен в оборот известным католическим богословом и церковным деятелем Хансом Урсом фон Балтазаром в его одноименной книге: H. Urs von Balthasar. Kosmische Liturgie. Das Weltbild Maximus des Bekenners. Zweite, völling veränderte Auflage. Einsiedeln 1961. Интересное развитие идеи литургического отношения к миру можно найти в книге известного французского философа Жана-Луи Кретьяна (J.-L. Cretien. The Ark of Speech. London: Routledge, 2004. Ch. 5).
30 Св. Афанасий Великий. Слово о воплощении Бога-Слова и о пришествии его к нам во плоти 14 (De Incarnatione Verbi). Творения в 4 томах. Т. 1. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. С. 209.
31 Ср. со ссылкой 9.
32 Характеристикой такого негативного «творчества» как потери архетипа Христа могли бы служить отказ от любви как приоритета человеческого существования, отказ от справедливости в обществе и отказ от истины в познании.
33 Ср. со ссылкой 26 на стр. 17, Метапарадигма. Вып. 5. 2014.
34 Как это было замечено известным католическим богословом кардиналом Анри де Любаком, «повторение заученных формул не гарантирует преемственность мышления. Невозможно полагаться на сокровища доктрины лишь через пассивную память. Необходимо, чтобы разум сохранялся и в этом в какой-то мере переоткрывал себя» (H. De Lubac. Paradoxes. Paris: Editions du Seul, 1959. P. 13–14).
35 Как мы уже отмечали выше, задача богословия и состоит в том, чтобы осуществлять постоянную конструктивную критику секулярных модусов сознания. Осуществляя такую критику, богословие утверждает себя как мета-дискурс, то есть как такая форма критического мышления о различных типах социальной активности, которая выражает Слово Бога Творца, а не служит «профетическим» голосом каких-то конкретных проявлений этой активности. Богословие выступает как мета-дискурс, превосходящий не только все социально-исторические науки, но и любые всеобъемлющие философские системы. Такое устройство его критической функции никогда не позволяет богословию соскользнуть в положение некой подчиненности по отношению к другим частным дискурсам (будь то философия, социальная политика или рубрики диалога между наукой и религией). А это означает, что богословие никогда не может быть определено и позиционировано секулярным разумом. И именно поэтому богословие не может согласиться с автономией представлений о той сфере реальности, которая описывается разумом, основанным на естественно-научной рациональности.
36 Ср.: Nellas P. Deification in Christ. St. Vladimir’s Seminary Press, 1987. P. 93–104.
37 Staniloae D. Theology and the Church. Crestwood, NY: SVSP, 1980. P. 224, 226.
38 Ср. с К. Яннарасом: «Православие… — это не идеология, не некая “объективная реальность”, но нечто, что следует открыть» как «истинную жизнь, жизнь, не знающую границ времени, пространства, тления и смерти» (Yannaras С. L’Eglise, un mode d’existence qui peut vaincre la mort. Service Orthodoxe du Press, N 169, Paris, Juin 1992. P. 3).
39 Приведем характерное высказывание митрополита Иоанна Зизиуласа в контексте диалога между наукой и христианским богословием: «Если богословие творчески использует греческий патристический синтез, касающийся истины и богообщения, и дерзновенно применяет его к Церквной сфере, разрыв между Церковью и наукой вполне преодолим. Ученый, являющийся членом Церкви, сможет осознать, что его работа является пара-евхаристической деятельностью, а это может привести к освобождению природы от ее эксплуатации современным техническим человеком» (И. Зизиулас. Бытие как общение. С. 119. Перевод откорректирован).
40 См. в этом отношении классическую работу М. Хайдеггера: Вопрос о технике // Время и бытие. М.: Республика, 1995. С. 221–238.
41 Staniloae D. Theology and the Church. Crestwood, NY: SVSP, 1980. P. 225 (ср. с рассуждениями о космологическом и антропологическом смысле техники у О. Клемана. Смысл Земли. С. 36–50).
42 Там же. P. 225.
43 Gregorios P. Cosmic Man. 1988. P. 225.